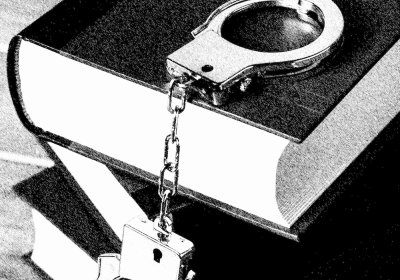Это к вопросу: почему наша власть проводит налоговую реформу таким образом, что прежде всего падает покупательная способность у тех семей, которые живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии.
Процент проценту рознь
Нам говорит правительство: всего-то добавляется к ставке налога с оборота 2-процентная величина! Стоит ли такая добавка разговоров… Но это кому как. У тех, кто с трудом сводит концы с концами, этот налог отбирал 20, а сейчас будет отбирать 22% их скромного дохода.
Но у тех, кто тратит на текущее потребление половину дохода, а половину направляет в накопление или разного рода финансовые инвестиции, налог с оборота отнимет только 11%. И так далее.
То есть при нынешнем размере медианной зарплаты в 1400 евро половина ее получателей потеряет более чем пятую часть заработка. А у второй половины – кто получает за труд выше медианного значения – налог отнимет тем меньшую долю дохода, чем размер его выше. И действительно, если текущее потребление семьи составляет, например, треть месячного дохода, то какая разница, составляет налог с оборота 6,66 или 7,13%.
Что касается подоходного налога, то правительство отменяет даже небольшую ступенчатость налогообложения доходов в интервале от минималки до двух тысяч евро (схема, которую нынешняя власть презрительно именует налоговым горбом, и его можно было убрать самым простым образом – растянув налоговые ступени до 3-тысячного дохода, например).
Проектируемый автомобильный налог тоже ударит прежде всего по тем слоям, для которых «автомобиль не роскошь, а средство передвижения». То есть – по малообеспеченной части автовладельцев, и так уже пользующихся автомобилями для самых неотложных поездок. А все – из-за немыслимой при наших доходах цены бензина, где высока доля акциза и налога с оборота, то есть доля стоимости топлива, изымаемая государством, снижать которую правительство не намерено.
В общем, логика налоговой системы пряма и проста, как швабра. Все получатели доходов у нас делятся на две группы: податное сословие, с которого стригут деньги, как шерсть с овец, и дворянство, налоговая нагрузка на которое несущественна по отношению к размеру получаемых доходов. И чем выше доход, тем доля затрат на содержание государства в нем ниже.
По отношению к средним значениям мы близки к среднеевропейским данным. Но это – лукавые цифры. Чтобы понять это, достаточно сравнить суммарную налоговую нагрузку на доходы ниже медианных значений и нагрузку на доходы в пять-шесть раз выше размера медианных зарплат у нас и в социально-ориентированных странах «старой Европы». Все данные для таких расчетов есть в интернете.
О равном налогообложении в социальной сфере
Начнем исследование налогового пресса с того, как он давит на важнейшую для всех нас социальную отрасль – на медицину. Дважды мне выпало обсуждать с легендарным нашим борцом с ковидом, а ныне – главврачом крупной больницы Аркадием Поповым странную ситуацию, когда из средств, получаемых от Кассы здоровья (собираемых за счет части социального налога), медицинские учреждения теряют 20%, а с нового года будут терять 22% со всех своих коммунальных расходов, а также расходов на любые инвестиции в оборудование, оплату ремонтов и т. п.
Настолько это серьезные величины, медики поняли, когда во время эпидемии им разрешили не платить налог с оборота (НСО) с расходов на оборудование. Хотя расходы на коммуналку и электроэнергию у современной медицины – выше, чем у средних размеров промпредприятий.
Не стану объяснять читателям механизм этого налогообложения. Скажу только: если освободить от НСО продажу всего, что требуется нашей «бесплатной» медицине, а для «платной» частной медицины сохранить нынешний порядок, то сразу финансовое положение общественного сектора в здравоохранении улучшится примерно на 12–15%.
Более того, можно доходы частной медицины поставить хотя бы под 13-процентный подоходный налог. Те, кто пользуется услугами платных медиков, подобное удорожание выдержат легко, скорее всего, даже не заметив его. А полученные дополнительные средства направить в Кассу здоровья. Но кто посягнет сегодня на кошельки налогового дворянства?
Хотя такую дифференцированную модель налогообложения можно применить ко всем видам потребления: снижая налоги на услуги и товары массового спроса и повышая стоимость всего, что явно потребляется хорошо обеспеченными слоями.
Налоги и бизнес
Главный удар по бизнесу наносит как раз налоговая политика, снижающая потребительские возможности малообеспеченной части населения. Мировой и даже наш собственный опыт выхода из кризисов свидетельствует: чем быстрее повышается покупательский спрос, тем быстрее поднимается экономика.
Только ленивый не знает о т. н. вертолетных деньгах в США или госинвестициях в те инфраструктурные проекты, которые требуют привлечения большого количества малоквалифицированных работников. И, конечно, в снижение налоговой составляющей для отраслей, которые конкурируют за внешнего потребителя с аналогичными отраслями соседних стран. Но, оказывается, история с акцизами на спиртное ничему нашу власть не научила. Увеличение налоговой нагрузки на гостиничный бизнес – яркое тому свидетельство.
Налоговое право опирается на несколько безусловных истин. Первая из них проста и понятна: равенство в налогообложении достигается неравенством налоговых ставок для разных категорий налогоплательщиков – бедные должны платить меньше, чем богатые.
Вторая имеет графическую интерпретацию. Называется она «кривая Лаффера». Это график, имеющий вид дуги. Растущая ее часть показывает, до какого уровня рост налогов ведет к росту поступлений денег в казну. А падающая часть отражает другую зависимость: насколько падают поступления в казну при повышении налогов.
Сегодня я не знаю ни одного специалиста в сфере налого-обложения (которых объединяет Союз налогоплательщиков Эстонии), который бы не оценивал нынешние налоговые изменения (в сочетании с политикой в сфере оплаты труда) как негативные, поскольку оптимум на кривой Лаффера мы уже прошли.
Происходящее сейчас в нашей экономике – не единичное явление. После борьбы с пандемией COVID‑19 у многих правительств появилось ощущение, что они могут диктовать обществу правила поведения (вроде того, как делали в эпидемиологические три года).
Сейчас в угоду политическим соображениям командная система распространилась на экономику. Но она, на самом деле, живет по своим законам. И управлять рынком по модели «надеть маски – снять маски» не получится.
Даже если это пытаются делать из самых высокоморальных побуждений.