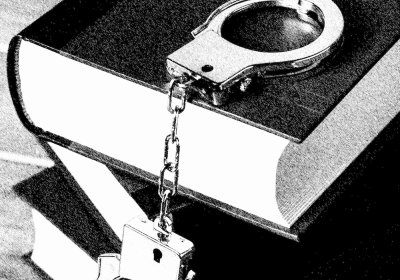Например, по рейтингу цифровизации информационного обмена населения с государством мы на призовом – третьем месте из 194 стран. Но что рейтинги. С новыми технологиями, стремительно врывающимися в наш быт, мы встречаемся в полном смысле слова на каждом шагу, как только выходим на городскую улицу. Только выходить надо осторожно. А то собьют ненароком пользователи «средств индивидуальной мобильности» (далее – СИМ), соответствующих новому технологическому укладу.
Придётся приспосабливаться
Не притянута ли за уши связь сегодняшней уличной вакханалии к эпидемии? Ничуть. Именно вынужденное сидение взаперти обусловило взрывной рост услуг по доставке продуктов или готовых блюд из ресторанов и кафе непосредственно заказчикам. Эти услуги развивались и до коронавируса. Теперь они стали обыденностью, выведшей на улицы поток СИМов. Впрочем, немалая доля в этом потоке тех, кто стремится поскорее попасть из точки A в точку B. Список электросамокатов, моноколёс, электровелосипедов явно будет пополняться техническими новинками.
Часть городских жителей требует немедленно убрать всё это великолепие с тротуаров (вернув их пешеходам), а ещё лучше вообще запретить. Или, по крайней мере, максимально ограничить использование СИМов: по скорости, времени суток, возрасту пользователей. Но это всё пустые хлопоты. Принять ограничительные правила легко, а откуда и за чей счёт появятся надзирающие за их исполнением? Технический прогресс остановить невозможно (что доказала ещё первая волна автомобилизации). Придётся всё-таки освобождать тротуары от немеханизированных пешеходов. Тем более, вперемешку со средствами мобильности, скоро по тротуарам потянутся сплошным потоком беспилотные самоходные доставщики (снующие уже сегодня на центральных магистралях). А куда девать пешеходов?
Яичница не получится, если не разбить яйца
Профессор Школы архитектуры Копенгагена как-то заметил: «У всех городов есть департамент транспорта. Но знаете ли вы хоть один город, в котором есть департамент пешеходов?» Хотя радикально сменить формат городской жизни можно и без смены департаментов.
Как менял Париж его мэр Осман, уничтоживший бульвары. Или более поздние парижские руководители, убравшие огромную часть старого города для размещения «Центра Помпиду». Сейчас требуется двухдорожную структуру улиц (автодорога, пешеходный тротуар) заменять трёхдорожной. Пешеходная зона пойдёт по дворам, откуда уберут автомобили и снесут заборы. Наверное, кое-где удастся какие-то автомобили запихнуть на подземные стоянки под дворами. Но принципиальный подход это не изменит: личный легковой автомобиль сохранится только как средство для дальних внегородских поездок. А для передвижения по городу останутся СИМы, автошеринг и беспилотные такси. Придомовые автостоянки превратятся в бульвары, которые сплошной лентой протянутся по нынешним дворам. В сохраняемых зонах старой застройки уберут автодороги (сегодня городские пешеходные зоны уже никакая не новость).
Перебить придётся немало «яиц»: юридических, технологических, психологических. Что обидно: многих проблем могло не быть, если бы политики, ставшие градоначальниками в девяностые годы, прислушались к специалистам, предупреждавшим – не приватизируйте придомовые территории, не позволяйте заборостроение. Тогда уже было понятно, насколько опасными для городов станут решения скороспелых политических мэров. Уже тогда в США и старой Европе идеи создания пешеходных пространств насаждались как картофель при Екатерине. Архитектурный мир жил идеями, выдвинутыми в 1961 году Джейн Джекобс, о возвращении городов пешеходам. С тех пор ни одна урбанистическая идея не обходится без оценки «качества пешеходной среды». Среди четырёх показателей такого качества «доступные для сквозного прохода кварталы». У нас придётся создавать новую городскую среду с большими боями.
Жизнь в сетях
Вторая группа постковидных проблем связана с нарастающей атомизацией труда. Для нового креативного класса атавизмом становятся понятия рабочего времени, трудового коллектива и рабочего места. Неизменны эти понятия только там, где от работников не требуется высокая квалификация и где трудятся малооплачиваемые слои прекариата (вроде французских «жёлтых жилетов»). Вырваться из бедности можно одним путём: получать и повышать постоянно высокий уровень образования. Ничего не поделаешь, мы живём в экономике знаний. Но в самой сфере образования тоже нарастает противоречие: цифровизации и развитию искусственного интеллекта продолжают учить средневековыми методами. Пандемия показала, насколько консервативна образовательная методология. Сегодня научные конференции чаще всего проводятся онлайн. Но обучение будущих учёных и специалистов, которым предстоит сотрудничать с искусственным интеллектом, идёт в классах большими группами. Хотя во многих странах Европы потребность в посещении студентами университетского здания возникает в редких нестандартных случаях. У нас ломают копья в спорах о языках обучения, при том, что мы вышли в мир машинного письменного и даже устного перевода.
И, наконец, третья актуальная постэпидемиологическая проблема связана с расширением пределов контроля и управления личностью в цифровом пространстве. Справившись с пандемией благодаря беспрецедентной концентрации властных функций, правительства не собираются от неё отказываться. Создались предпосылки оруэлловского контроля за всеми аспектами жизнедеятельности населения. И здесь срочно требуется диалог с обществом.
Как говорится: время пошло.