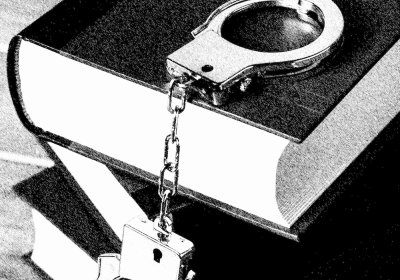По данным социологической фирмы EMOR, рассчитывающей с апреля 2007 года рейтинги партий без учета голосов неопределившихся, никогда раньше этот показатель не поднимался выше 40%. Например, в октябре 2009 года, когда прошли предыдущие местные выборы, он составлял 30%.
Есть и другие указания на то, что с любовью народа к партиям не все хорошо. Так, президента Ильвеса настораживает рост недоверия избирателей к партиям, проявления внутренней жизни которых вызывают недоумение. Хелле Мери, вдова одного из прежних президентов, находит, что пауза в развитии Эстонии уж слишком затянулась. А видный экономист Андрес Аррак заявляет, что не видит на политическом ландшафте партии, которая была бы в состоянии прервать эту паузу. Что это, конец партократии в Эстонии?
Почти по Михалкову
Цифры этого все же не подтверждают. Хотя со своим выбором еще не определилась почти половина избирателей, среди остальных свою поддержку нынешним четырем парламентским партиям засвидетельствовали целых 92% опрошенных. То же было в прошлом году, тогда как в предыдущие годы цифра эта была ниже 90%.
Лишь у трех непарламентских партий рейтинг был в июне в пределах 1-3%, у остальных – ниже 1%, тогда как у трех парламентских партий он 24-28%, да и у четвертой тоже 14%.
Надо также учесть, что лишь в рекордном 2009 году участие избирателей в местных выборах было чуть выше 60%,
тогда как во все предыдущие годы оно оставалось ниже 53%, а в 2005 и 1999 годах даже ниже 50%.
Ясно, что большинство в любом случае проголосует за жизнеспособные партии. Это значит, что истина, провозглашенная в одном из детских стихов Сергея Михалкова («партия – наш рулевой»), живет и здравствует, только теперь партия-то не одна, и это приводит избирателя в замешательство.
Три повода для сомнений
Автор этих строк хочет не агитировать кого-то за или против чего-либо, а просто поделиться собственными сомнениями.
Первое из них связано с тем, что парламентские выборы – это одно, а местные – совсем другое, хотя последние и являются прелюдией первых. Всегда и везде ли правильно голосовать за «любимую» политическую силу, особенно при нынешнем их состоянии? Ведь партия – не жена и не родина, которым нельзя изменять. На местном уровне от партий ожидают иного, чем на государственном, поэтому и предпочтение их может быть иным.
Второе сомнение порождено феноменом «засидевшихся» - как на местном уровне, так и общегосударственном. Издревле известно, что под лежачий камень вода не течет. А что, если немного его потревожить? Хуже наверняка не будет.
Наконец, третье сомнение обусловлено неопределенностью, а чего мы вообще ждем сегодня от партий?
Чтобы все оставалось, как есть? Или перемен? Но в чем и в какую сторону? И реальны ли они?
Крупных целей больше нет
Развитие Эстонии как-то незаметно стало проседать после достижения двух крупных целей: вступления в Евросоюз и НАТО. Последовавшие затем вхождение в Шенгенское пространство и переход на евро были лишь приложением к этому.
Третья крупная цель – нормализация отношений с Россией – из-за недоступности была отложена до лучших времен и начинает теперь реализоваться по инициативе другой стороны. Похоже, выбранная тактика не суетиться зря оказалась правильной, ибо большой стране, от которой все и зависит, требуется для прозрения чуть больше времени, чем маленькой.
Крупных целей, увы, больше нет, осталась лишь видимость их, да и она какая-то размазанная. Неспособность провести административную реформу тормозит развитие регионов – ну так и что? Без задраивания пробоин в системе образования не решить проблем занятости и сохранности населения – ну так и что?
Закостенелая национальная и миграционная политика мотивирует уезжать отсюда, а не приезжать сюда – ну так и что?
При отсутствии крупных целей их заменители препарируются долго и мучительно, иногда без всякого результата. Только как в мирное и спокойное время обзавестись крупной целью?
Свобода без равенства и братства
Лозунг Великой французской революции – «свобода, равенство, братство» – был худо-бедно реализован при советской власти по двум пунктам. То есть общество дефицита много чего, в том числе свободы, сформировало некое подобие равенства, которое порой рождало и чувство братства.
Сейчас у нас свободы навалом, но нет ни равенства, ни братства, ибо все заняты погоней за богатством. А ведь равенство легче достижимо в бедности, чем в богатстве, да и интересы у людей разные: кому-то надо больше вещей, кому-то власти, а кому-то – ума.
Вопросам равенства посвящен весь блок социальной политики, но лишь немногих беспокоит то, что в обществе накопился дефицит чувства братства (взаимопонимания между разными группами людей). К сожалению, это не совсем еще ясно и нашим рулевым, увеличивающим этот дефицит в угаре междоусобицы.
Но всему свое время, ибо рано или поздно избиратели убедят политиков в том, что свобода не противопоказана чувству братства. И покажут, что потенциал у него при наличии свободы совсем иной.